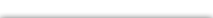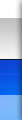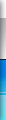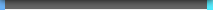Шукшин
Бабушка однажды прочла у Шукшина в сказке фразу, где герой говорит Бабе Яге:
- А ху-ху не хо-хо, бабуся..?
Очень возмутилась и высказалась:
- Ведь дети могут это прочитать - и охуеть! Война
- Ба-а-аб, а страшно было, когда война началась?
Бабушка у меня с 18-го года, к началу войны побывала первой трактористкой на Алтае, единственной грамотной в семье, вышибла в тридцатых из головы городского учетчика, обнаружившего "лишних" корову и лошадь, мозги так, что дойти домой он дошел, но как его зовут и где был - не помнил... Много, чего напыталась.
- Да не то слово, что страшно... Главное - я же хроменькая, трактором подавило. А если меня до войны при живых мужуках никто не взял в двадцать три-то года, то кому я нужна буду, когда мужуков всех поубивают. С Гражданской-то, вона, скока их вернулось? То-то и оно...
Вот и плакала - знала, что война эта у меня бабье счастье забирает. Однако ж, смекалистая была, выучилась профессии, которая завсегда кусок хлеба даст - а заодно, думаю, мужука на справность мою матерьяльную призовет. Стала мастером в парикмахерской. Ну вот, хоть и ненадолго, мужик-то пришел, да Кольку мне слёзки мои послали следующей весной. Тем и рада была...
Колька - это папка мой.
Победа
Разговаривал как-то с бабушкой на тему Победы.
- Сильно радовались, что война закончилась?
- Да нет, уже радости не осталось... Чему радоваться-то - мужики все перебиты, не ели досыта который год, детишек в селе мало, каждый вечер девками обязательно плачем, сидя у кумов, да похоронки, да калеки...
Больше радовались, что г р у з и н дальше войска не повел - думали, что еще лет пять будет воевать и не видать нам мужиков. Нам же на карте показывали, что много за Берлином земли, - есть, что отвоёвывать.
- А чему тогда радовались, что тогда самым желанным было??
- Ооо, это у всех одно. Когда карточки отменил Маленков - вот это был ПРАЗДНИК!
Вот в тот день я смеялась и плакала от счастья. А в Победу - просто облегчение было.
Половички
Бабушку звали часто на похороны - обмыть, приготовить, поплакать..
Народ весь был из бывших деревенских, обычаи помнили, но второе поколение их уже не знало.
Бабушка никому не отказывала, ходила, помогала, готовила усопших.
Только в одном случае не давала согласия - когда умирали дети.
В такой день закрывалась ото всех, сидела дома, пряла что-то, вязала.
Потом оставляла эти свои "поминальные" половички на могилке на "сороковины".
Лошади
Лет в семь в цыганском таборе мне нагадали при бабушке, что я пострадаю от лошади в десять лет.
Непонятно - как, неясно - где, но от лошади.
Я и без того тогда настороженно относился к лошадям - любил смотреть, как они гарцуют, как с достоинством вышагивают по деревенскому двору деда, но к ним не приближался.
А когда однажды меня посадили на старого костлявого мерина, у которого позвоночник выделялся ребристым толстым "прутом" на спине, то я испытал все неудобства быстрой езды на неоседланной лошади, какие только может ощутить мальчик. Отбило мне тогда всё, что можно было и даже то, о чем я имел только смутное представление.
На десятилетие отец подарил мне свои старые часы "Полёт" - с желтоватым исцарапанным циферблатом и стареньким кожаным ремешком. Первые часы в нашем классе, если не считать чего-то импортного на руке Витьки - сына начгороно.
Бабушка в тот же вечер вплела в край ремешка какой-то серый волосок или шнурок, сказав, что теперь мне не страшна ни одна лошадь. Впрочем, о предсказании я уже не помнил, только пожал плечами, да и забыл про бабушкины старания.
А через месяц отец положил мне под подушку холодный блестящий браслет - новое одеяние для моих часиков. Браслет чудесно щелкал, холодил кожу, а еще им было удобно открывать "чебурашки" с лимонадом.
В школу я пришёл с обновленными часами, а старый ремешок обменял в то же утро у Алика, сына сапожника, на негашеный блок с марками.
На большой перемене я достал блок и все филателисты - наши и с параллельного класса - кинулись первыми рассмотреть марки. Получилась куча мала, меня уронили, кто-то упал коленками на мою ногу...
Вечером рентген показал, что у меня сломаны две фаланги на правой ноге. После чего я не ходил в школу полтора оставшихся месяца до конца учебного года.
В том блоке были четыре марки, с надписью по краю:
"Орловская тяжеловозная порода лошадей"
А через много лет я услышал фамилию Алика в сюжете про постановочные трюки с лошадьми. Кто-то из из известных каскадёров рассказывал, что у Алика есть своё "лошадиное" слово, после которого он, каскадёр, не боится даже самых сумашедших съёмок с падениями и кувырками из седла.
Потом показали самого Алика, он стеснялся камеры, говорил, что съёмки - это не его, а вот лошади...
Тут он протянул ладонь с хлебом одной из своих любимиц, переступающей копытами в конюшне "Мосфильма".
На запястье у него что-то было - кажется, ремень от часов, без всякого циферблата.
Вот бы обменять его назад.
Мумиё
Однажды бабушке плохо было, совсем как-то. Она уже старенькая была, я после первого курса приехал.
Я уж думал за отцом бежать.
А тут в дверь позвонили - она на втором этаже старого купеческого дома жила тогда.
Он назывался у нас "половинакирпичный-половинадеревянный".
Это был, наверное, вообще самый старый дом в городе.
Но тут уже алкаши жили и инвалиды разные. И соседка-Людка, которая пела маленьким дочерям про "мотоцыкал-цыкал-цыкал, всю дорогу обосикал".
И вот, - говорю же, - в дверь звонят. А она открыта была - входная.
И на лестнице, высокой, крутой - как только хроменькая бабушка поднималась? - стоит пузырёк тёмный, Людка его рассматривает.
А там плавает что-то внутри и бумажка рядом лежит.
А на бумажке - вроде как рецепт. Сколько раз употреблять и так далее.
И крупно написано - "МУМИЁ".
И дальше чего-то про остальные составляющие.
И в конце - "ИЗВИНИТЕ".
Я потом бабушку спрашивал, - почему, мол, поверила-то, что не гадость какая. Мало ли.
А она говорит, - дескать, извиняются, же, - как обманывать могут и извиняться.
А ей тогда уже уринотерапию советовали всерьёз.
То есть, уринотерапии она не поверила, а мумию и "извините" - поверила.
И выздоровела ведь.
Людка, кстати, после этого пить бросила.
Я этому до сих пор удивляюсь.
Желалка
А вам бабушки повязывали ниточку на кисть, чтобы вылечить руку (или не руку)?
Это называлось "рука развилась".
Растяжение было, на самом деле, но болеть могло месяцами.
И завязывали шерстяную (вариант - льняную, хлопковую) ниточку на кисти - и проходило.
Мне бабушка тоже завязала, прошептала что-то ниточке и погладила моё запястье.
- Баб, а, правда, нитка поможет?
Очень уж болело - потому засомневался.
Бабушка на меня посмотрела с жалостью, как на больного на голову.
- Поможет, конечно. Не нитка, а бабушкина желалка, чтобы выздоровел. Рази ж у меня не выходило, чиво вслух желала?!
И я сразу поверил, потому что бабушка однажды пришла ко мне в школу вместо отсутствующих родителей и сказала директору, что он говнюк и кровь с детей пьёт, да сам её и прольёт. По делу сказала.
А он обалдел, потерял интеллигентность и начал на бабушку махать руками, шибанул локтем о стеклянный шкаф, а потом бабушка ему бинтовала разрез от осколка стекла, впившегося в руку.
Они тогда простили друг друга, кстати.
Оказывается, она его нянчила.
Дед
Ты, Вить, бабку-то слушай, да не обидься на её. Мавра сроду плохого не посоветует.
Вот уж как я её волтузил малу́ю, как подзатыльниками кормил по-братски, - однако ж и меня чичас строит, как старшина. А я её слушаюсь больше, чем старуху свою, так-то.
Она ж мне даже в дорогу сказанула, так сказанула - ну, када с немцем повезли воевать. Я на подводу полез, да так коленкой звезданулся, что взвыл аж. Все вокруг давай охать: "Примета плоха...", а Мавра-то спокойно так, как будто не на войну отправлят:
- Ты за ногу-то, Вань, не боись, нога не вернется - сам зато вернесся, ногу выстугам...
Ну, думаю, дура ведь, хоть и в девках давно, хромая-то наша - некому теперь её поучить-то будет, без братки...
А в сорок втором-то, когда мальчонку подобрали на улице, чуть живого, да голодного - занёс я его в подвал, чтобы под бомбежкой не сгинуть обоим. А там кто-то в тряпье копошится - бабка оказалась. Страшна, сердита - будто помешал я. Пацанёнок-то, в чём душа только держалась, к ней кинулся - родня.
А старая мне:
- Чего тебе надобно - проси. Не твоя забота будет, выполню.
Я аж хохотнул:
- Да чего ж на войне-то хочется - живым возвернуться, да целым.
Старуха мне строго как рявкнет:
- Сеструху почём не слушал, али забыл? Вот как она скажет - так и будет, коса камень не попортит.
И ничего-то я не понял. Решил, что рехнулась старая ведьма, с голоду бредит.
Да уж после сообразил, когда вернулся. Нас ведь с деревни только двое и осталось с войны той - я да Илюха-косой. Мавра-то сохла по нему еще с довоенного. Да где ж ей, хроменькой, - уж после войны на него столько баб глаз положило, справных, да крепких - и ничего, что ухо ему отсекло, в ентом деле ухи - не главное.
А подай-ка ты мне палку, да пойдём в дом, Мавра лытков наварила, поглодаем, пока зубы целы.
Ты культю мою не видел? Вчерась сглузду закинул куды-тось в прихожке, цельный день прыгаю на одной ноге, как цапля.
Ну, пошли-пошли, зовёт уже Мавра, не будем её сердить...
Сорока
Бабушка мне маленькому сказала как-то:
- Ты, когда хворать и помирать буду, больно мне будет и плохо - ты меня пощекоти, шоб я померла от смеха и весело.
И я ей, правда, ладошку пощекотал, когда она с инсультом потихоньку уходила, плача, что беспомощная.
Пощекотал, как она мне когда-то делала "сороку-воровку", кружа пальцем по моей детской ладошке и потом повторяя" "этому - дала, этому - дала..."
И она улыбнулась, мне кажется.
И ушла.